О книге Дэвида Гребера «Бредовая работа»
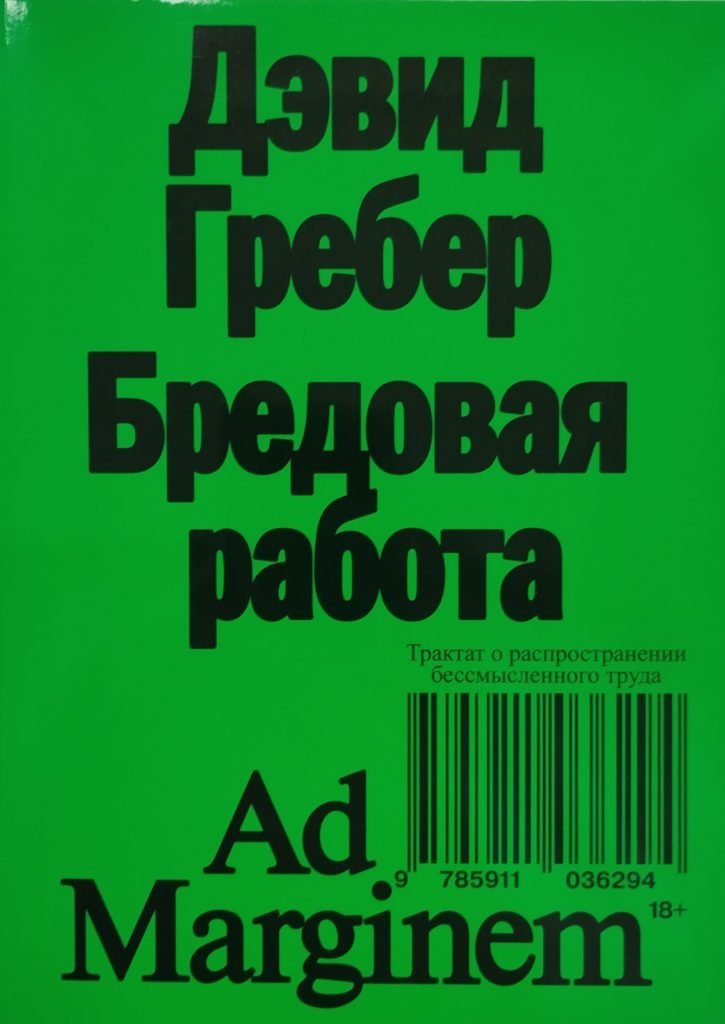
ВОЗНЕНАВИДЕЛ Я ТРУД[1]
«Бредовая работа» — это не «плохая работа»: не грязная, не низкооплачиваемая, не трудная, не малопрестижная. «Бредовой» автор называет ту работу, которая видится абсолютно бессмысленной даже тем, кто её выполняет.
Однако нет доблести в том, чтобы констатировать очевидное, поэтому Гребер исследует данное явления, расширив рамки до изначального понимания трудовой деятельности.
Генеральная линия изложения результатов исследования Дэвидом Гребером феномена «бредовой работы» предельно ясна и не вызывает вопросов: человек создан не для труда — те, кто утверждает обратное, суть жулики и воры. На изгнании человека из рая основано ортодоксальное христианство, на сомнительной ценности труда утверждается иудаизм (общий нам Ветхий завет), труд = проклятие, наказание за первородный грех. Открываем 2-е послание к Фессалоникийцам ап. Павла, Глава 3, стих 10, читаем: «Труд — общая всем епитимия, в Адаме на всех наложенная: в поте лица твоего сне́си хлеб твой (Быт. 3:19)» (в поте лица своего будешь добывать [точнее, «есть» = «сне́си»] хлеб свой). Нигде о подвижничестве и об ударно-трудовом. Труд есть способ заработать на хлеб — и всё. Нужно мало хлеба — мало работаю, есть хлеб сегодня — не работаю вообще: «довлеет дневи злоба его» (Мф. 6:34). Гребер взыскует политического — мне достаточно религиозного.
Но!
Секуляризованному обществу и экономическому индивиду нужны рациональные обоснования абсурдности работы сверх меры. Тогда бессмыслица приобретает строгость и ясность толкового словаря. Этим и занимается Гребер: поясняет, зачем нужна власть имущим бредовая работа. Под «бредовой» он подразумевает ту, которая приносит обществу только вред (контролёры в общественном транспорте, администраторы в Большом театре, Севагин в МАМТ’е и т.п.). Однако если вы спросите, почему, например, запредельно завышена цены на билеты в ГАБТ, то вряд ли вам ответят, что сделано это из жадности и снобизма, имеющего в виду «отсечение» от театра «голодранцев», чья структура потребления предполагается более простой, чем у любого «барина с Апрашки». Платить непомерную цену приходится уже не только за хлеб, но и за зрелища. Конечно, наличие в мире Большого театра причиняет планете только добро, но ценой бо́льшей эксплуатации того, кто занимается по-настоящему (или хотя бы условно) полезной работой. Качество жизни тех, кто предается бессмыслице повышается за счёт тех, кто выполняет ту же функцию, но платит за всех тот, кто выполняет нужную работу.
Последняя наглядна, поэтому исчислима в деньгах, тогда как работа какого-нибудь менеджера зачастую не видна ни под каким мелкоскопом, следовательно, оплачивается произвольно и является замаскированной формой взятки/подкупа гражданина политическим истеблишментом.
Происходит очевидное, но в высшей степени невероятное. Возьмём балет: танцовщицы приносят радость, а получают за это меньше, чем завтруппой, от которого обычно один вред. Как правило, эти «завы» не ведут за собой, они — надзирают.
Творческие люди вовсе не противопоказаны вознаграждению. Да и вообще не стоит считать, что измерение соотношения труда и пользы в деньгах безнравственно. Если принять реальную модель
₽ = Т/П,
где
₽ – заработок,
Т — труд, затраченный на решение задачи,
П — польза от конечного продукта,
то при условии П→0 и Т→0 мы получим неопределенность, которую необходимо раскрыть; делается это нанимателем путем объявления Т и П (рабочее время и польза от него соответственно) функциями, производные от которых по заданной работодателем переменной определяют размер заработка и не дают ему уйти в бесконечность. Функции, как и формула «Кока-колы», — коммерческая тайна. Гребер предположил бы, что она произвольна и не имеет другого смысла, кроме извлечения пользы кем бы то ни было, кроме её авторов.
Данная ситуация с очевидностью показывает, что П = Т/₽, т.е. польза обратно пропорциональна зарплате, и только эта формула может описывать современную экономику.
Мало кто может позволить себе работу, которая полезна без оговорок. Я, например, могу спокойно утверждать, что моя деятельность преподавателя приносит пользу лично мне: я люблю, когда меня окружают красивые вещи и красивые девушки, фактом своей работы я увеличиваю общее количество счастья на земле. Известному астрологу Кеплеру заниматься астрономией позволила только основная работа. Польза собственной астрологической деятельности была отлита Кеплером прямо в граните, причем учёный привёл религиозный довод: «Для каждой твари Бог предусмотрел средства к пропитанию. Для астронома Он приготовил астрологию». Как видите, истинная духовность и деньги вполне сосуществимы.
«Хитрый бизнес» основан на математике — она позволяет даже нарушить Второе начало термодинамики и заставить неимущих платить за богатых, но физику не обманешь: деньги всё равно уходят от производящих к потребляющим и имитирующим пользу.
Поскольку рынок отзывается на это оскудением, Гребер видит несостоятельность и религии, и математики при планировании современной экономики, поэтому предлагает политическое прочтение ситуации, и таковое чисто гипотетически имеет место[2].
Будучи антропологом, Гребер не обнаруживает в истории идеи о самоценности труда для человека. Религия не навязывает человеку благосостояния ценой рабства, математика нужна не только для того, чтобы обеспечивать мнимые величины. В «балансе» человек исторически неприхотлив. Гребер не особо останавливается на этом, но, к счастью, есть книга, где этот вопрос рассмотрен всесторонне и вполне приложим к нынешней экономической формации[3].
Гребер рассматривает множество отдельных примеров «бредовой» работы, однако из его сочинения становится ясным, что протестантское отношение к труду, будучи извращением христианства, низводит всю трудовую этику в область бреда (историко-беллетристическое обоснование этой точки зрения дано в занимательной книжке одного современного философа-примитивиста[4].
Нет никакой корреляции между благосостоянием и полезным трудом и, самое главное, доказать её невозможно. Строго говоря, надёжно можно опираться только на выводимость в математике, однако, когда сам принцип причинности ставится в философии науки под сомнение, на первый план выходит некоторая произвольность математической модели в выборе связей-причин. Доблестный труд = высокому благосостоянию? Эмпирические данные это не подтверждают. Что ж, если опыт противоречит теории, то тем хуже для опыта, а нарисовать математическую модель для любой теории легко. Есть мнение, что причинно-следственные связи устанавливаем мы сами, опираясь на фундаментальную (первородную) погрешность, предопределившую наше пребывание в этом мире.
Какой вывод следует из книги Дэвида Гребера?
Очень простой: если вам попадется человек, который говорит о том, что пьющий кофе с корицей по четвергам не достигнет успеха, а благосостояние придёт только к тому, кто трудно и тяжело работает, присмотритесь, чем занят этот трибун сам. Спросите себя: «Cui bono?» — и ответ вас может обескуражить. Да, курсы «успешного успеха» смешны, но нам предлагают худшее.
Знаете почему «дыхания маткой» и прочие ретриты будут популярны всегда?
Они — яркая иллюзия, тогда как увещевания о «трудном труде» — иллюзия унылая.
[1] «И возненавидел я сам весь труд, над чем я трудился под солнцем, потому что оставлю его человеку, что будет после, и кто знает, мудрый ли он будет или глупый, — а будет владеть моими трудами». (Еккл. 2:18).
[2] Для усиления позиции рекомендуется доп. литература: 1) Бард А., Зодерквист Я. Netoкратия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма. — СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004. — 256 с. и 2) Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. — М.: Ад Маргинем, 2014. – 326 с.
[3] См., напр.: Вебер М. Избранное. Протестантская этика и дух капитализма. — М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 656 с.
[4] Зерзан Дж. Первобытный человек будущего. — М.: «Гилея», 2007. — 224 с.